 |
 |
|
N°107, 20 июня 2005 |
 |
ИД "Время" |
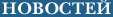 |
 |
 |
 |
Ты вернешься на зеленые луга
Пина Бауш поставила «Орфея и Эвридику» в Парижской опере
Это не то чтобы только балет и не то чтобы только опера -- два вида театра сплавлены воедино. На сцене два Орфея, две Эвридики, два Амура -- для каждого персонажа есть оперный и балетный артисты. (В первом составе: Орфеи -- Шарлотта Хеллекан и Кадер Беларби, Эвридики -- Жоэль Азаретти и Алис Реновен; на второй день остались те же певицы, а танцевали Ян Бридар и Мари-Аньез Жилло). «Оперные» сделаны душами «балетных», удивительный расклад для Пины Бауш! Будто плотскость профессии стала раздражать хореографа; будто, когда она в начале карьеры впервые ставила этот спектакль (1975, Вупперталь), она от танца требовала слишком многого -- и находила то, что требовала, не в ногах, а в голосах.
В начале спектакля (белая выгородка, стеклянный куб ближе к заднику, узкий и длинный сухой куст, лежащий на боку; выбеленное и будто замершее пространство, Эвридика только что, после свадьбы, умерла -- она в подвенечном платье сидит на высоком стуле) мы видим почти нагого Орфея, стоящего спиной к залу, лицом к прозрачному стеклу. Лицом к залу -- его душа, женщина в длинном черном платье. «Души»-певицы в движениях откровеннее и проще, и если с Амуром, пришедшим известить Орфея, что тому можно отправиться в загробный мир за Эвридикой, у балетного героя начинается робкий, полуобморочный диалог, то его «душа» просто склоняется к ногам «души» Амура в мгновенном движении запредельной усталой благодарности.
Усталость героя -- главная краска вовсе не усталого спектакля. Съеживающиеся плечи, гнущаяся спина, бессильное опускание на пол: в монологе все движения будто обрываются, ломаются. Человек мира, попавший в обстоятельства войны, некогда любимый персонаж Бауш. Чрезмерность усилия, необходимого для выживания, вот мотив. И Кадер Беларби, чья карьера уже близится к закату (позади двадцать с лишним лет блистательного премьерства) чувствует эту усталую, натруженную интонацию лучше, чем рвущийся к вершинам Ян Бридар -- тот слишком играет страсти, оттого кажется несколько истеричным.
Небольшой спектакль составлен из четырех сцен, трижды закрывается занавес. Вот Орфей отправляется в путь -- и вот уже подземное царство. Здесь возникает та ярость, что привычна ранней Пине: тройка обитателей ада несется в диких прыжках, взлетает, сгруппировавшись, в воздух и на долю секунды замирает черными комками, руки обхватывают колени. Вдоль задника проходят ошарашенные свеженькие покойники -- дамы и господа, будто только со светского раута -- и теряются в толпе агрессивного кордебалета мойр, то протягивающих нити через сцену, то слепо нашаривающих лица друг друга. Сюда приносят запеленутую, как мумию, Эвридику и отсюда же выталкивают в новый путь Орфея -- толпа женщин выбрасывает руки перед собой -- ладони вперед, пальцы опущены вниз - и, медленно наступая, просто выдавливает его со сцены. Здесь танцев главных героев почти нет; это манифест будущего балета Вупперталя. А следующая сцена -- в загробном мире, танцы теней, среди которых солирует Эвридика, -- нескрываемая вариация на темы баланчинской «Серенады». И это откровенное высказывание нового -- в 1975 году -- лидера хореографов: ваши танцы были прекрасны, но они уже мертвы.
Лучшая сцена -- последняя, дуэт Орфея и Эвридики. На сцене натурально четверо: «души» героев рядом, но, отвернувшись друг от друга, прижимаются спина к спине. Сами герои по разным углам сцены. Эвридика все старается приблизиться к Орфею, упасть на руки, обвить его, заглянуть в лицо, а он, бедный, уж на спину голову закидывает, чтобы только не встретиться с ней взглядом. (Певцу было позволено вывести Эвридику на свет, если он в подземном царстве на нее не взглянет.) Но, конечно же, женщина настоит на своем, и после очередного печального вопля «души» Эвридики сначала оборачивается «душа» Орфея, а затем и «балетные» вцепляются друг в друга взглядами.
«Я умираю», -- пропевает «душа»-Эвридика и укладывается на пол. Крест-накрест на нее ложится Эвридика; «душа» Орфея заходится в страдальческой арии, обнимая трупы, и тоже ложится сверху. (Сам Орфей скорчился в дальнем углу.) У Глюка вообще-то счастливый конец -- там Зевс позволил влюбленным быть вместе; здесь -- четыре бесчувственных тела и траурная череда кордебалета, проходящая вдоль задника. Вообще-то Бауш в 1975-м хоронила классический балет и сладкие истории, связанные с классическим искусством. Но Парижская опера сумела доказать, что в театре могут жить рядом самые древние и самые революционные (уже даже не Бауш, а какой-нибудь Бьянки Ли) постановки. Собственно, потому она и остается лучшим балетным театром мира.
Анна ГОРДЕЕВА, Париж--Москва

